Разделы
Евгений Маймин: Urbi et orbi
Источник: Маймина Е. Евгений Маймин: Urbi et orbi // Псковский летописец: Краеведческий альманах. 2010. №3(4). С. 133-146.
«Ты любил «угощать» друзей Псковом. Помню, как ты устроил мне пиршество – обход псковских храмов…». Так вспоминал – уже после его смерти – однокурсник и друг отца Марк Григорьевич Качурин, профессор Герценовского педагогического института.
Собственно, в воспоминаниях тех, кто в разные годы приезжал в Псков и побывал в нашем доме, проскальзывает один и тот же мотив: длительные прогулки по городу, физически для отца не простые (раненая на войне нога, не прекращавшаяся боль, отсюда и палочка, словно сформировавшая внешний его облик), но… необходимые для него как воздух.
Странное дело: я редко видела людей, которые бы так сроднились с не родным для себя городом, чувствовали себя его искренними патриотами, а сам город – своей судьбой, даром, посланным свыше (кажется, такое отношение было к Пскову и у Ю. П.Спегальского, только, по счастью, отцу удалось избежать того горького разочарования, которое под конец отравило жизнь Ю. П.). Было ли это свойством личности отца? или самого города, который оказался столь для него интересным и судьбоносным? Не знаю. Знаю только, что он всегда подчеркивал свое происхождение – из Пскова, а на замечания – слава Богу, не частые, но все же имевшие место – что Вы, мол, Евгений Александрович, – никакой не провинциал, Вы – коренной ленинградец, петербуржец то есть, – отвечал: Да что вы! я-то как раз и есть настоящий провинциал. Пскович. И этим горжусь.
И было это задолго до того времени, когда, наконец, вспомнили, что русская литература, в большинстве своем, вышла из провинции. Задолго до того, как стали издавать журнал с симптоматическим названием «Русская провинция». Устраивать семинары и конференции по изучению провинциального быта. Когда модной стала усадебная тема (а ведь усадьба – та же провинция). И когда слово «провинциал» стало постепенно реабилитироваться. Хотя, впрочем, еще вопрос: реабилитировано ли оно и сейчас…
На самом деле, хотя Е. А. Маймин и провел более тридцати лет своей жизни – то есть детство, юность, молодость – в Ленинграде, коренным ленинградцем он тоже считать себя не мог, так как родился в Воронеже, откуда в шестимесячном возрасте – после смерти матери, от родов – и был привезен своим отцом в Ленинград. О своем довоенном детстве он рассказывал мало. Жизнь была трудная, скорее бедная: комната в коммуналке на Рузовской улице, вблизи Витебского вокзала, – квартал, известный в те времена как один из наиболее бандитских в городе, так что поход в школу и возвращение из нее под улюлюканье местной шпаны уже требовал мужества, пусть и детского, и вместе с тем мыслился как акт стоицизма. Потом арест отца – как ни странно, по причинам отнюдь не политическим, точнее, не совсем политическим: хотел человек создать свой малый бизнес в нэпмановские времена, да не смог. Не дали. Так что вернулся домой уже незадолго перед войной. Правда, оставалась та, что заменила ему – действительно, заменила, – мать. И которую он всегда и считал своей матерью. И сестра. И были еще малые подарки судьбы, которые его заставят с ранних пор уверовать в благожелательство к нему высших сил. Один из таких подарков – школа на Фонтанке (в наши дни подобные школы называют элитными – и непонятно, как туда попал отец, который не только по духу, но и по воспитанию был далек от всякой элитарности). Школа, которая сведет его со многими замечательными детьми. Некоторые из них, как, например, Владимир Авакумов или Лев Малаховский, впоследствии известный лингвист, останутся на всю жизнь его друзьями. Еще один друг, Эдик (это его потом выведет отец под именем Алеши Слепухина в рассказе «Теорема Ферма»), гениальный математик, так много обещавший и так ничего и не успевший, погибший в самом начале войны, останется глубокой и на всю жизнь затаенной болью отца.
И еще один подарок судьбы того времени: грозный сосед по коммунальной квартире, «из бывших», неожиданно оказавшийся тонким ценителем искусства и открывший отцу мир книг и музыки. Но в самом ли деле он открыл, или просто точно уловил то, что было заложено от природы, – этого я не знаю.
А затем была война. Точнее, две войны: Финская и Отечественная. О первой у нас говорить не полагалось. И папа рассказывал о ней крайне мало. Только несколько раз – на мои вопросы – сказал, что было в ней много несправедливого. Что заставило взглянуть на многие вещи иначе.
Собственно, ушел он на войну «историком»: поступив после окончания школы на исторический факультет Ленинградского университета, он подпал под так называемый «ворошиловский призыв» – Закон о всеобщей воинской обязанности на военную службу, принятый в соответствии с секретным Дополнительным протоколом к Договору о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года. Только об этом договоре никто из начинающих историков-призывников, тут же отправленных для военной подготовки в Рязань, не знал.
Однокурсники и одновременно однополчане отца, И. А. Реформатский и В. К. Фураев, вспоминали впоследствии его в это время так: «Скромный, очень застенчивый Женя Маймин, мечтавший об изучении истории, литературы, восхищавшийся произведениями искусства, порой никак не мог понять, чего от него хочет командир отделения Абдарахимов, плохо говоривший по-русски казах с двумя классами начальной школы, заявлявший, что «для того, чтобы заправлять шинеля, не надо образование кончить…»
Но на этот чуть комический облик «лунатического юноши» накладывается другой образ: человека, прошедшего через всю войну (он был окончательно демобилизован лишь в конце 1944 года, после четвертого по счету, но на этот раз очень тяжелого ранения – в ногу), прошедшего ее простым солдатом (самое высокое звание, до которого отец дослужился, – сержант, чем он всегда гордился, потому что знал, что основную тяжесть войны выносили солдаты, а не офицеры, и что выигрывали ее опять-таки прежде всего солдаты; не отсюда ли впоследствии его повышенный интерес – и любовь – на всю жизнь – к Толстому?). В 1941-1942 отец служит командиром зенитного 45-миллиметрового противотанкового орудия 54-й танковой бригады на Южном фронте. Знаменитая «сорокопятка», которую еще называли «Прощай, родина!». В непосредственном соседстве с которой выжить было трудно. Почти невозможно. И все же – каким-то чудом (еще один знак благожелательства высших сил) – он выжил. Когда – в середине 1970-х годов – отца принимали в Союз писателей, Андрей Михайлович Турков, тоже писатель и фронтовик, прочитав автобиографию отца, не выдержал и воскликнул: «Да какое еще может быть обсуждение кандидатуры? это же смертник!»
От того времени осталась небольшая газетная заметка, посвященная отцу: «Командир орудия комсомолец-сержант Е. Маймин вел непрерывный бой с пикирующими самолетами врага под непрерывным огнем артиллерии и автоматов. Под ураганным огнем он заменил санитара и спас жизнь восьми бойцам, вынеся их с поля боя» (из газеты Южного фронта «Красный кавалерист на фронте»). Отец всегда посмеивался над этой статьей, хотя и хранил ее бережно в своем письменном столе. На самом деле, объяснял он, вынес он с поля всего одного бойца. Но и это было нечеловечески трудно. В незаметном героизме и состояла для него правда войны, которую он так ценил опять-таки у Л. Н. Толстого.
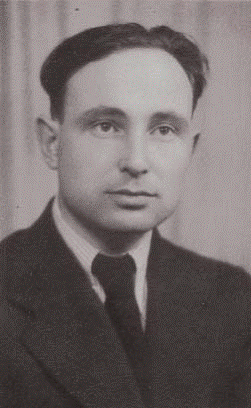
Опыт ли войны был тому виной, или что-то другое, но только будучи демобилизован как инвалид Отечественной войны и имея право в этом своем качестве быть восстановленным на любой факультет Ленинградского университета, в 1945 году он восстанавливается – но только не на родной исторический, а на филологический факультет.
Как когда-то Пушкин, вспоминая о Царскосельском лицее, мог бы, наверное, воскликнуть и он, оказавшись в стенах Ленинградского университета: «И мы пришли, И встретил нас…»…
Послевоенное (а, в сущности, еще даже и военное – шел последний год войны) поколение студентов ленинградского филфака и впрямь было кому встретить. Преподавали там в это время Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, Н. И. Мордовченко, А. А. Смирнов. Особые отношения свяжут отца с Эйхенбаумом, в семинаре которого он сделал первый важный для себя – и в профессиональном, и в человеческом смысле – доклад «Проблема добра и зла у Лермонтова».
«Эйхенбаум внимательно слушает. Доклад был блестящий. Так сказал и Борис Михайлович», – записала в этот день в своем дневнике однокурсница отца Валентина Базанова.
Отец остался с Эйхенбаумом и после того, как его подвергли остракизму, изгнали из университета, запретили руководить студентами. Отец же всегда чтил в нем своего Учителя. Под его руководством он и написал впоследствии свою кандидатскую диссертацию, посвященную роману Льва Толстого «Воскресение».
Еще одним подарком судьбы – после дарованной на войне жизни – был состав самих студентов. Достаточно сказать, что на курсе учились, помимо уже упомянутого М. Г. Качурина, Юрий Михайлович Лотман, Юрий Борисович Томашевский, Евгений Колмановский, Лев Александрович Дмитриев, ставший на всю жизнь самым дорогим, самым задушевным, верным и надежным другом отца.
Наступил 1950 год, последний год учебы в университете. «По большому счету, у нас только два талантливых кандидата в аспирантуру: Юра Лотман и Женя Маймин»,- записывает в дневнике В. Базанова. Но ни тот, ни другой в аспирантуру не попадают. Юрий Михайлович, как известно, по распределению отправится в мало привлекательный по тогдашним понятиям город Тарту (вожделенной филологической Меккой город станет потом – и именно благодаря Лотману). Отец же отправится преподавать в окрестностях Ленинграда (в самом Ленинграде работу ему было не найти). Сначала в Ломоносовское мореходное училище, а затем – уже подальше от города, но ближе к своей специальности – в Выборгский педагогический институт. И будет писать – параллельно – кандидатскую диссертацию. В перерывах между преподаванием и лежанием в больницах (последствия ранения).
А в 1957 году Выборгский институт сливают с Псковским педагогическим институтом, фактически присоединяют к нему, предложив студентам и преподавателям перебираться в древний город. Так в Пскове оказывается и отец, став преподавателем кафедры русской и зарубежной литературы, а вскоре – и на долгие годы – ее заведующим.
Когда я впоследствии читала гетевский роман «Страдания юного Вертера», то почему-то немецкий Вецлар, место действия романа, я представляла себе в виде Пскова – города тех времен, когда в нем оказался мой отец. Видимо, оба они были местом, где в определенный исторический момент собралось много талантливых людей, где много работали, но и много думали, размышляли, творили. Псков 1960-1970-х годов и в самом деле был богат на яркие личности, многие из которых так же, как и отец, не были «родными» Пскову, но стали таковыми, приехав, в силу тех или иных причин, в послевоенный город. Боюсь обидеть здесь кого-то своим случайным неупоминанием, и потому назову лишь тех, с кем дружески, особо, сблизился отец, и кто для него составил орбиту «своего Пскова», – города, без которого он все менее и менее мог уже мыслить свое существование.
Это, в первую очередь, его коллеги по институту, – замечательный лингвист Софья Менделевна Глускина, философ Лина Георгиевна Дюкова, математик (слывший местным диссидентом за свое письмо к Солженицыну) Геннадий Александрович Павловский и его жена Надежда Владимировна Павловская, преподаватель политэкономии Анатолий Михайлович Ковальчук, трое последних – папины однокурсники по Ленинградскому университету. Мария Титовна Ефимова, Алиса Ивановна Голышева, Лариса Ильинична Вольперт, Вера Николаевна Голицына, – преподаватели кафедры русской и зарубежной литературы. Это их впоследствии «обессмертит» в своей шутливой эпиграмме Юрий Михайлович Лотман – в ту пору, когда отец станет заведующим кафедрой с преимущественно женским составом населения, состоявшего из ярких, но тем самым трудно управляемых индивидуальностей (эпиграмма была написана словно от лица отца и звучала так: «Как пройти мне биссектрисой / Меж Ларисой и Алисой / Между Титовной и Верой / Меж Чумою и Холерой»).
Это и художники, архитекторы, восстанавливавшие послевоенный Псков, и самим своим колоритным бытием вдохнувшие в его древние стены новую душу. Всеволод Петрович Смирнов, Борис Степанович Скобельцын. С первым дружба на какой-то период оказалась почти что семейная. Ходили друг к другу в гости. Всеволод Петрович любил поражать экзотическими блюдами, ибо, как талантливый человек, был талантлив во всем: не только в живописи, архитектуре и ковке, но и в приготовлении пищи, что делал, однако, лишь по праздникам, не смешивая никогда праздники с буднями. С Б. С. Скобельцыным отец предпочитал гулять по городу. Возможно, еще и потому, что Б. С. оказался в какой-то момент держателем ключей от церквей, которые реставрировал (в частности, церкви Николы со Усохи). Я думаю, что это он, первый, «угощал» отца теми псковскими церквами, которыми затем отец любил угощать, в свою очередь, своих гостей.
Из поколения более молодых художников, водивших дружбу с отцом, был еще Владик (Владислав) Шумаков, чей колоритный образ до сих пор стоит у меня перед глазами. Жил он тогда в Мирожском монастыре – там, где располагаются сейчас иконописные мастерские. Был высок, худощав, лицом красив – словно с фаюмского портрета – но словно не нынешнего времени. Всегда в длинной, ниже колен, рубахе, а поверх нее грубой шерсти почти такой же длинный свитер. Был он прекрасным резчиком по дереву. И до сих пор в нашей квартире висят его блюда красного дерева, на которые я каждый раз взираю с удивлением: какой же простой может быть красота! Невписываемость Владика во время сказывалась еще и в том, как он, сам того не ведая, нередко «подставлял» отца. Особенно часто это случалось в день Пасхи, когда, встретив отца на улице, он бросался с ним христосоваться. Времена же были советские, а последствия непредсказуемые. Отец очень любил Владика, но не без тревоги поглядывал, кто в это время проходил мимо. Зато именно от Владика, да еще от жены В. П. Смирнова Натальи Сергеевны Рахманиной, тоже художницы, мы имели на каждую Пасху удивительной росписи яйца. Таких красивых яиц, как те, что расписывали они, я никогда уже больше потом не видела. И как жаль, что ни одно из них не сохранилось.
Помню еще походы в мастерскую (она же квартира), находившуюся в полуразрушенной городской усадьбе, которую молва и по сей день связывает с пребыванием в Пскове Марины Мнишек. Жил и работал в этой мастерской ювелирных дел мастер Анатолий Елизаров, поивший своих гостей травяным чаем и увлекавший их в бесконечные беседы о сущности искусства, которые я, учившая тогда немецкий язык, называла на немецкий манер Рhilosophieren (вариант: Fabulieren).
В начале 1960-х годов в Псковский институт – благодаря посредничеству С. М. Глускиной и храбро (по тем временам) поведшему себя ректору института Ивану Васильевичу Ковалеву – на кафедру английского языка была принята в качестве преподавателя Надежда Яковлевна Мандельштам, впервые – после сибирской ссылки – получившая таким образом возможность работать в европейской части России. Несколько лет ее пребывания в Пскове (до окончательного переезда в Москву) стали на самом деле эпохой – и в жизни города, и в жизни моего отца. Однако, если вдуматься, эпохой внешне почти не приметной. Потому что внешне все продолжалось, как и прежде: люди ходили на майские и ноябрьские демонстрации, стояли в очередях за маслом (пока оно еще было в магазинах), за мясом. Партийные люди ходили на партсобрания. Но исподволь начинала бурлить и иная жизнь.
Чтобы повидаться с Надеждой Яковлевной, в Псков стали приезжать другие люди. Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Варлаам Шаламов, Лев Гумилев. С Шаламовым отец сблизился. По-видимому, воспоминания (лагерные и военные), хоть и разного свойства – но равной напряженности – их сроднили. И потом они долго еще обменивались письмами, а когда Шаламов прислал один из первых, вышедший уже после лагерей, сборник своих рассказов, отец сказал, что это – поразительная проза в смысле умения сказать безыскусно правду там, где кажется уже и никакая литература не возможна (Сам он как-то обмолвился, что есть некая правда войны, о которой никто никогда не напишет: и он никогда не читал о ней, и сам никогда не осмелится написать; разумеется, речь шла не об идеологических конъюнктурах).

Е. А. Маймин и Л. А. Дмитриев у храма Николы со Усохи
Приезд Гумилева оказался для отца знаменательным в ином отношении. В. П. Смирнов повез тогда их обоих к себе на дачу в Малы. Ехали они на тракторе. Гумилев рассказывал о своей теории пассионарности, над которой в то время много размышлял. И теория эта как-то удивительно накладывалась на пейзаж, медленно, в такт движению трактора, разворачивавшийся у них перед глазами (не случайно и Андрей Тарковский выбрал впоследствии эти места как одну из площадок для съемки «Андрея Рублева»). Позже отец не раз повторял, что именно в тот день, а точнее, тот вечер, предзакатный вечер, перед ним таинственным образом открылся гений места.
Иным было посещение Пскова Натальи Евгеньевны Штемпель, знаменитой Наташи Штемпель, приехавшей в город уже после отъезда Надежды Яковлевны – но по ее следам. «Запомни эту женщину», – как-то особенно торжественно сказал мне тогда папа, отправив меня показывать ей Псков (не помню, но была какая-то причина, по которой он не пошел сам). Я тогда не поняла всей торжественности момента. Старушка, действительно, была мила, но она прихрамывала, и мне было ее очень жаль, тем более, что после пройденного круга от Кремля к Покровской башне, и оттуда к Мирожскому монастырю и церкви Климента, Папы Римского хромота ее заметно усилилась. Но разве я могла тогда себе представить, что хромота эта была уже освящена поэтом. И породила великие стихи. И была не увечьем, но стигматом, а значит, и благодатью. К пустой земле невольно припадая Неравномерной сладкою походкой…
Благодаря Н. Я. в жизнь отца вошел еще один человек, дружбой и вниманием которого он очень дорожил. Сергей Алексеевич Желудков, отец Сергий, в середине 50-х настоятель Николького храма в Любятове, запрещенный впоследствии в священнослужении за правозащитную деятельность и столкновения с власть предержащими, в конце 60-х он вновь вернулся в Псков и поселился в Любятове. По радио Свобода в то время читались фрагменты его книги «Почему и я христианин», впервые вышедшей в 1973 году в Германии. Не только на Западе, но уже и в Москве отец Сергий был известен в философских и теологических кругах как один из ярчайших современных богословов. А в Пскове (в Любятове) он вел жизнь тихую и внешне ничем не примечательную – жизнь старика, время от времени продающего на рынке яблоки из собственного сада, чтобы было на что жить. Невысокий старик с аккуратно подстриженной седой бородой. Только свечение глаз у него было каким-то особым. Как, впрочем, и у другого человека, с которым отец Сергий в свою очередь познакомил отца, – священника, ставшего уже после него настоятелем Любятовского храма – отца Владимира (Попова), впоследствии, на протяжении многих лет, незаметно, но очень весомо присутствовавшего и участвовавшего в самых важных – как радостных, так и печальных – событиях нашей семьи (именно он в 1997 году будет отпевать папу).
Да простится мне еще одна «германская» параллель, но Псков 60-70-х годов представляется мне иногда этаким гофмановским пространством, готовым в каждую минуту предстать то самым что ни на есть обыкновенным городом, то поистине сказочной Атлантидой. Так старик, торгующий на рынке яблоками или клубникой, в иной жизни оказывается ученым-богословом, тончайшим мыслителем и одаренным музыкантом (в доме отца Сергия стояла фисгармония, на которой он виртуозно играл). А немолодая женщина, что преподает студентам-оболтусам английскую грамматику и даже, кажется, не очень-то умеет ее преподавать, потому что не владеет ни методикой, ни педагогикой, в другом пространстве, в то же самое время, складывает в уме (это именно ее выражение) свою бессмертную книгу, сначала первую, затем вторую, которые станут одним из наиболее ярких явлений русской – и не только мемуарной – литературы ХХ века. Книги, которые на какой-то момент даже затмили – по тому интересу, который к ним проявился – стихи ее великого мужа.
Возвращаясь к теме Надежды Яковлевны в Пскове, скажу, что с ней мои родители – оба – подружились как-то не чинно: более сердцем, нежели головой. Отца она называла Женькой, маму – Танечкой. Любила бывать у нас в доме, любила зазывать к себе домой – в комнату в коммунальной квартире в начале Октябрьского проспекта, которую тогда снимала (не знаю, по иронии ли судьбы, но сейчас подъезд дома, где она жила, замурован; не знаю, сохранилась ли квартира: так время стерло следы пребывания в городе человека, которому в других городах устанавливаются памятники). И уже уехав из Пскова, постоянно обменивалась с отцом и с мамой короткими письмами – даже не письмами, но записками, какими обмениваются только близкие люди. Они и сейчас лежат у отца в письменном столе.
Детская память удерживает одну яркую картину тех лет: Н. Я. с вечной папиросой у припухших губ («товарищ большеротый мой») за столом «гостевой» комнаты нашей двухкомнатной квартирки на Набережной Великой, отчего и вся комната словно в дыму. Напротив – человек – как я определила его еще в детстве, – похожий на Гете в старости, только гораздо более красивый, чем Гете. У стены оставлены его костыли. Человек этот – Леонид Алексеевич Творогов, еще один дорогой папиному сердцу друг, которого подарил ему Псков. Но два «дорогих человека» явно ссорятся. «Я вашего Пушкина пиф-паф», – кричит Творогов, наводя свой палец, словно пистолет, на Н. Я. (в это время он увлекался Яхонтовым, считал его поэтом великим, чью славу, однако, затмил злодей Пушкин). И папино растерянное лицо – как погасить ссору? (ссор папа не любил).
…Отец начал преподавать в Псковском педагогическом институте с 1957 года. И преподавал в нем до самой смерти в 1997 году. Ровно сорок лет. Я знаю, что студенты его очень любили. Много уже об этом написано и в воспоминаниях, вышедших после его смерти в составе сборника «Третьи Майминские чтения». И в газетных статьях. И сказано в устной форме. Но не менее важно, что сам он тоже трепетно любил студентов. Любил смотреть, как он говорил, в их открытые лица. Любил их интерес – разумеется, не к себе, но к предмету. Никогда я не слышала, чтобы какого-то студента он называл глупым, неспособным, или, еще того более, дураком. Каждый был ему интересен по-своему (в чем, как мне кажется, и был залог его педагогического успеха – в обход всяческих методик и педагогик). Отцу вообще были интересны люди. И потому он нередко приглашал на факультет для чтения лекций тех, кого ценил сам и кого смогли благодаря ему оценить и его студенты. Из Ленинградского университета приезжала читать лекции по зарубежной литературе Нина Яковлевна Дьяконова, а из Даугавпилса курс о немецком романтизме приезжал читать тогда еще совсем молодой, но уже блистательный Федор Полиектович Федоров. В 60-е – начале 70-х годов неоднократно читал курсы лекций теперь уже не только бывший однокурсник, но еще и университетский, тартуский сосед отца Ю. М. Лотман.
«Вообще между Тарту и Псковом установились отношения не совсем обычные, редкая научная близость: кафедралы «взаимно» участвовали в конференциях, «взаимно» оппонировали, печатались взаимно в сборниках», – вспоминала впоследствии Лариса Ильинична Вольперт, которая сама была живой нитью, связывавшей Псковский институт (точнее, кафедру литературы Псковского института) с кафедрой литературы Тартуского университета (будучи замужем за профессором Тартуского университета Павлом Семеновичем Рейфманом, Л. И. Вольперт жила в Тарту, но работала до конца 1970-х гг. в Пскове).
И в самом деле, географическое ли то соседство, или что иное, но отношения отца с Юрием Михайловичем в эти годы заметно оживились и стали к тому же «семейными». Помню приезды его большого семейства (трое сыновей) в Псков – по поводу и «без». Помню и наш событийный семейный выезд на пятидесятилетие Юр.Миха в Тарту. Когда папа защитил докторскую диссертацию, из Тарту пришла телеграмма, сильно озадачившая служащих почтамта (подозреваю, что также и другого заведения): «Всего, что ведал наш Евгений Пересказать мне недосуг Привет тебе великий гений И корифеус всех наук». Надо ли объяснять, кто был ее автором?
Позже, в 1980-е и в начале 1990-х годов, отношения между Ю. М. и отцом стали более пунктирными. Но оставались сердечными. Когда умерла жена Ю. М. Зара Григорьевна, папа поехал на похороны, а вернувшись, сказал, что было очень грустно, но возвышенно. И очень его взволновали и одновременно тронули обращенные к нему слова ЮрМиха: «Вот так-то, брат. Вот так все и случилось». Значит, все же – брат. И было это для отца очень важно. А за год, или два, до собственной смерти ЮрМих написал папе открытку. Воспроизвожу ее по памяти, так как в свое время «подсмотрела», а сейчас открытка, скорее всего, потерялась. В открытке Ю. М. писал, что последнее время чувствует себя очень усталым. Просыпается утром, и ему уже ничего не хочется. А это печальный знак. Знак того, что надвигается.
Интересом к людям и потребностью общения объяснялась, как я думаю, и организация отцом (на самом деле не любившим дела организаторские) в 60–70-е годы пушкинских конференций и издание пушкинских сборников, сделавших Псков на некоторое время одним из центров отечественной пушкинистики. Сюда приезжали и здесь печатались, помимо сотрудников отцовской кафедры, В. В. Пугачев, В. Д. Левин, А. Б. Ботникова, А. П. Чудаков, Н. И. Михайлова, Ю. Н. Чумаков, Г. В. Краснов, имена которых теперь уже не нуждаются в комментарии. Ю. М. Лотман именно в псковском «Пушкинском сборнике» напечатал ставшие теперь уже классикой статьи о поэме Пушкина «Анджело» и о «Капитанской дочке». Как и многие другие провинциальные конференции, псковские пушкинские конференции имели перед аналогичными учеными собраниями, проводимыми в Москве или Ленинграде, преимущество неформального общения. Кулуарами для бесед здесь оказывались рощи Михайловского леса или же Устье Великой, а в роли экскурсоводов – о, неслыханная привилегия тех лет! – выступали то артистичный Семен Степанович Гейченко, то задумчиво увлеченный Борис Степанович Скобельцын.
В конце 70-х проведение пушкинских конференций в Пскове оказалось – по разным причинам – затруднено. Но, в определенной степени, им на смену пришли выездные семинары Древнерусского сектора Пушкинского дома, возглавляемые Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, инициатором которых был, однако, отцовский друг Левушка – сотрудник Древнерусского сектора Лев Александрович Дмитриев, постоянный гость и большой поклонник псковских мест. Будучи безусловно событием в культурной, или, лучше сказать, интеллектуальной жизни Пскова, для отца эти семинары имели значение не только как дополнительная возможность общения с любимым другом (а теперь уже и друзьями – ибо чувство высокой и почтительной дружбы связало его вскоре и с Д. С. Лихачевым), но еще и мыслились – в первую очередь – как возможность приобщения студентов к высокой науке и высокому строю мыслей, образец которого являл для него Лихачев.
Из преподавания в институте рождались его книги. «Опыты литературного анализа» (1972), «О русском романтизме» (1975), «Русская философская поэзия. Поэты-любомудры, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев» (1976), «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество» (1982), «Лев Толстой. Путь писателя» (1982) «Афанасий Афанасьевич Фет» (1989). И многочисленные статьи. О творчестве А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, С. П. Шевырева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. А. Фета, о проблемах поэтики и стихосложения. При этом «ученым» себя отец не считал. Но лишь внимательным читателем (сейчас бы сказали – смысловиком, употребив модное слово; проблема только, что модных слов отец не любил). И потому его книги и сейчас воспринимаются двояко. «Слишком просто, – говорят одни. – Словно даже и не научно». «Какая глубина и какое поэтическое чутье в этой простоте. И на каждом шагу открытия, которым сам автор словно даже и не придает значения». Но отец всегда и сам считал, что писать надо просто. Хотя знал, что просто писать – сложно. И… ответственнее.
Мне всегда казалось, что преподавание и творческая деятельность критика и литературоведа совокупно составляли основу жизни отца. Причем ни та, ни другая сторона не существовали отдельно. И только гораздо позже я поняла, что была еще одна, потаенная, сфера деятельности, привлекавшая его, и которой он словно стыдился. Ею было писательство. По-настоящему же я это поняла – смешно и стыдно сказать – всего лишь год назад, когда в руки мне попались уже неоднократно цитированные в этой статье дневники студенческих лет папиной сокурсницы Валентины Базановой. Именно там я прочла, как отец – однажды, во время одной из вечерних прогулок – признался ей, волнуясь, что видит свое будущее как писателя.
Почему он целиком и полностью не ушел в прозу? Об этом я уже никогда не узнаю. Остается только сожалеть, что это не свершилось, во всяком случае, так, как он сам того хотел. Потому что я твердо уверена, что ему было что сказать. И он мог сказать. Но не сказал…
Впрочем, в конце 80-х он все же сделал попытку. Издал сборник своих военных (и не только военных) рассказов под названием «Я их помню». Маленькая книжка под мягкой обложкой, ценой 70 копеек, изданная Лениздатом. В сборниках псковских литераторов и другой периодике опубликовал еще несколько рассказов и эссе. Был даже принят в Союз писателей. Хотя долго не хотел подавать для этого документы, и сделал это лишь под нажимом бывшего своего ученика по Ломоносовскому мореходному училищу, в свое время не без содействия папы оказавшегося в Пскове, а в то время уже возглавлявшего Псковскую писательскую организацию. Звали этого дорогого для папы ученика Александр Александрович Бологов.
И все же… Я не раз замечала, что, насколько радостно и уверенно папа дарил свои литературоведческие книги, настолько же смущался и казался растерянным, даря людям сборник рассказов «Я их помню». Некоторым он так, видимо, и не решился подарить книгу: несколько экземпляров и до сих пор лежат – с дарственными надписями – в его столе. Чувствовал ли он себя в этой области самозванцем? Да и – сказать честно – в целом книга его военных рассказов прошла скорее незаметно. Было несколько – как это всегда в таких случаях бывает – восторженных отзывов. Пару раз рассказы читались по местному радио. Но серьезного отклика он на свою прозу не получил.
Прежде чем начать писать эту статью, я пересмотрела папины книги. Книгу его рассказов я перечитала от начала и до конца. И, кажется, что-то поняла. Поняла, что отец со своими рассказами и своей особой, во многом автобиографичной, на грани документа, манерой повествования оказался тогда просто не ко времени. В 70-е и 80-е годы манера эта – я так думаю – воспринималась (даже заинтересованными читателями) скорее как недостаток, неумение писать художественно.
С тех пор, сначала на Западе, потом и у нас, появилось новое направление в современной литературе, получившее и свое особое обозначение – литература свидетельства (litt rature de t moignage): к ней в первую очередь относится литература о концентрационных лагерях и о холокосте. Литературные критики начали говорить и об особом жанре – эгороманистике, отразившем веяния нового времени. Строго говоря, появилось все это раньше, но узнали мы об этом лишь в последние два десятилетия.
Думаю, что отец инстинктивно и, несмотря на свой подчеркнутый традиционализм, именно в своей прозе был наиболее близок идеям и поискам литературы нового времени. Давая своей книге название «Я их помню», он наверняка не знал о существовании книги Жоржа Перека «Я вспоминаю», составленной из «маленьких фрагментов повседневности», которые представители одного и того же поколения видели, пережили, разделили между собой, но которые потом исчезли и забылись, не став частью большой Истории. Не знал он, скорее всего, и о книге американского художника Джо Брейнарда «I remember» (1975), которая, в свою очередь, вдохновила Перека. Но объединяла его с ними одна интенция: не дать случиться смерти дважды. Потому что второе умирание – стирание из памяти людской – еще страшнее первого, физического. И потому в отцовской прозе – наряду с очерками о людях известных, ярких, уже, во всяком случае, оставивших свой след (отец писал о Томашевском, Эйхенбауме, Творогове, Колиберском, Скобельцыне, Л. А. Дмитриеве), – люди, никому не известные: боец Гасанов, капитан Петров, комбат Бурцев, наконец, пьяница Максимыч из нашего псковского двора, с которым они, как оказалось, вместе «Лиманы брали». Все они тоже – и тем более – имели и обретали в его прозе право на память.
Не уверена, что отец держал в уме и ныне столь часто цитируемую фразу Т. Адорно о невозможности заниматься литературой после Освенцима. Слава Богу, он и не знал Освенцима. Но знал войну. И сам столкнулся с проблемой – как писать, когда – невозможность физическая описать всю правду, а писать ложь (она же – вымысел) неловко.
Мне он как-то отдал экземпляр «Я их помню» с фразой, показавшейся тогда почти безнадежной. «Не выбрасывай это, – сказал он, – может, хотя бы тебе когда-нибудь пригодится».
Но теперь я твердо уверена (или просто хочу быть уверенной): эта книга пригодится не только мне. Придут новые читатели, и они поймут. «Племя молодое, незнакомое» – племя, в которое всегда верил отец.
И последнее, в качестве post scriptum`a. Сезон 1996-1997 был печальным для Пскова. Почти один за другим ушли из жизни В. П. Смирнов, Б. С. Скобельцын, Е. А. Маймин. Буквально год спустя на стенах домов, где они жили, появились мемориальные доски. Когда открывали мемориальную доску отцу, кто-то в толпе тихо, но так, чтобы было слышно, сказал: «А ведь это кончается старый Псков. Боже, как грустно!»
Екатерина Маймина
Справка: Urbi et orbi – «городу и миру» (латинск.)
комментарии (0)
Добавить комментарий